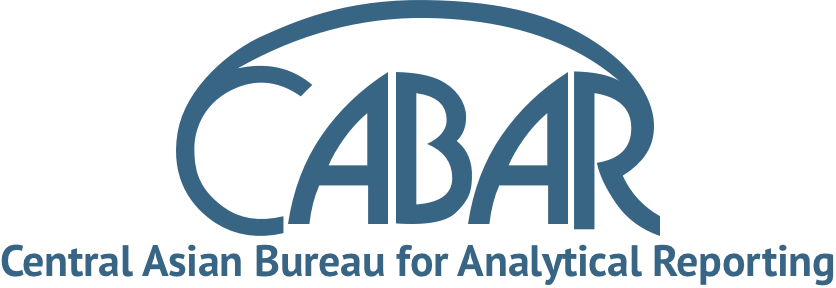«Программа реабилитации вернувшихся из Сирии и Ирака должна быть индивидуальной для каждого человека. Универсального ключа нет. Если бы он был, во всем мире им бы успешно пользовались» — об этом в интервью для CABAR.asia рассказала Юлия Денисенко, независимый эксперт в вопросах противодействию экстремизму и де-радикализации.
Подпишитесь на наш канал в Telegram!
CABAR.asia: Кыргызстан прорабатывает вопрос возвращения своих граждан из зон боевых действий. Общество разделилось – одни считают это правильным, а другие опасаются возможных последствий. Как вы оцениваете этот шаг?

Возвращать граждан из зон боевых действий нужно, в глобальной перспективе борьбы с экстремизмом и терроризмом это очень важный шаг для Центральноазиатского региона. Во-первых, дети не виноваты. Большинство членов международных террористических организаций, за исключением некоторых индивидуумов, сами стали жертвами психологического насилия. Путем манипуляций, которых к ним применялись, под разными предлогами и мотивами они были вывезены в зоны конфликта. Но в нашем законодательстве нет понятия психологическое насилие, соответственно жертв такого насилия тоже нет. Эти люди сами оказались заложниками ситуации и жертвами. Их труд, их психологические и физиологические возможности грубо эксплуатировались. Они выполняли где-то роль живого щита во время боевых действий, где-то участвовали в тыловых работах. Этот труд не оплачивался и выбора у них не было, когда они оказались там.
Во-вторых, мало сказать «там плохо, а здесь хорошо». Государство предлагает реальную альтернативу людям, которые запутались. Тем более, если речь о детях, чье мнение вообще не спрашивали.
Альтернатива, о которой идет речь – это серьезная социальная и материальная помощь, восстановление документов, лечение, работа и профессиональное обучение. Там они голодали, над ними издевались, они пережили ужасные лишения и несчастья, а здесь, на родине их ждут и им готовы дать шанс. Это очень важно в плане глобальной борьбы с экстремизмом и терроризмом. А способно ли государство на это?
Очень часто мои коллеги и я сталкивались с тем, когда человек понимает, насколько он был не прав, уже оказавшись там. Но он также прекрасно понимает, что в другом мире, за забором организации у него просто нет возможности существовать, ему некуда идти. А здесь ему дали такой шанс, выстроили для него коридор к нормальной жизни.
Для тех, кто не верит в реабилитацию этих людей, и считает, что к нам возвращаются люди с протестным и криминогенным потенциалом – есть такое юридическое понятие как презумпция невиновности. Пока не доказано обратное, эти люди не виновны. Об этом надо помнить обществу.
Видите ли вы какие-либо риски?
Рисков много, на самом деле. Есть внутренние риски, а есть внешние, не зависящие от тех женщин и детей, которые вернутся. Они зависят в большей степени от государства. Например, если государство отдаст эту работу на аутсорсинг какой-либо неправительственной организации, где гарантия, что у этой организации будет финансирование на долгосрочную перспективу, что этот проект не будет передан потом кому-то другому. Когда доноры предоставляют гранты, нет гарантии, что одна и та же организация выиграет грант два раза. Это вопрос устойчивости.
Другой момент – недостаток специалистов. Это тоже не зависит от тех, кто возвращается. Это проблема самого государства и общества, но сегодня ни в одном вузе нет курса по реабилитации тех, кто попал под воздействие социально-психологических манипуляций, из-за которых они оказались в МТО (международная террористическая организация). Причем этим должны заниматься не только психологи, сейчас нет специалистов социального направления, юридического.
Есть и внутренние риски, связанные непосредственно с личностными особенностями возвращенцев. С 2016 года стало активно продвигаться понятие «львята халифата». Это дети, обещающие вырасти и «зарезать иноверцев», дети, которые убивали и истязали пленных. Нужно понимать, что вместо математики эти дети считали патроны, вместо физкультуры была военная подготовка, вместо рисования – арабская каллиграфия, вместо литературы – заучивание доктринальных положений и правил организации. Они жили совершенно в другом сообществе. Некоторые из этих детей возможно даже были использованы в качестве солдат, что для таких организаций вполне нормальное дело, возраст там не учитывается. Дети – очень выгодные воины, они участвуют в войне, потому что это для них своего рода игра. Ребенок не может оценить последствия своих действий, просто потому что другого мира он не видел.
Когда эта категория детей возвращается, нужно понимать, что это не совсем то понятие «дети», которое принято в нашем обществе. У них не было ни книжек, ни игрушек, а если и были, то без головы, чтобы избежать изображения лица. Здесь много вопросов, насколько правильно можно организовать работу с этими детьми. Но делать это нужно. Тем более, описанный выше сценарий – редкость. В основном к нам вернут очень маленьких деток, которые даже не умеют говорить. Понятно, что они не несут никакой угрозы обществу.
Можно ли ориентироваться на опыт соседей в вопросе возвращения граждан из Сирии и Ирака (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан)? Применим ли в Кыргызстане опыт европейских стран?
Мы не можем использовать европейский опыт, потому что ментально мы от них сильно отличаемся. Даже тестовые методики на определение уровня развития личности мы брать не можем. Нам нужны адаптированные методики, которых пока еще нет. Специалисты есть, но это огромный труд, который займет немало времени.
Готовой базы для возвращения нет нигде сейчас в мире. Европа оказалась в такой же ситуации — привезли людей, но что с ними, как с ними работать, мы узнаем только через несколько лет, когда станет заметен прогресс от тех или иных программ, которые применяются.
Готов ли Кыргызстан к такой работе?
Нужно было уже давно вести серьезную подготовку. Прежде чем привезти возвращенцев из зон конфликтов, нужно знать сколько детей и каких возрастных групп, на каком языке говорят эти дети, есть ли специалисты, которые смогут провести грамотную диагностику, например, на арабском, если дети не понимают другого языка. Необходимо также адаптировать тесты, потому что диагностика ребенка, который вырос совершенно в другом обществе, с другим окружением, понятиями, идеологией, совершенно невозможна с применением европейских психологических тестов.
Простой пример: рисуночный тест, когда ребенка просят нарисовать человека. Если у нас перед поступлением в школу ребенок рисует человека без лица, значит есть серьезные проблемы в личностном плане, вердикт у психолога будет не слишком хороший. А если ребенок, вернувшийся из Сирии, нарисует человека без лица, то это совершенно нормально – рисовать живых существ доктринально запрещено. Поэтому же в реабилитационном центре не должно быть изображения живых существ. В детских поликлиниках на стенах нарисованы птички, рыбки, бабочки и все с глазами, с лицами, что привычно. Для возвращенцев этот вопрос будет чувствительным.
Организация самого процесса реабилитации должна начинаться со сбора максимума информации, заранее нужно знать куда мы будем возвращать детей. Нужно знать, к чему готовиться. Если у детей есть родственники, готовые принять, то это одно решение, если нет – это совершенно другое. Нужно знать, сколько детей сирот, кто будет с ними во время реабилитационной программы.
Работу нужно проводить и с персоналом, который будет работать с этими людьми, насколько правильно он будет влиять на реабилитацию, насколько это будет мягко. Персонал нужно заранее обучать, даже кухонную работницу и техничку. Они должны быть в курсе, с чем столкнутся в процессе работы и должны четко понимать – все, что они там увидят, услышат и узнают, даже случайным образом, нельзя выносить за пределы стен заведения. Это не только вопрос стигматизации вернувшихся, но и вопрос безопасности персонала.
Каким образом должна быть выстроена реабилитационная работа, чтобы она была максимально эффективной?
[pullquote]Что такое реабилитация? Это командная работа. [/pullquote]В этой команде обязательно должны быть не только психологи, но и психиатры для диагностики и работы с психическими расстройствами, с которыми возвращаются люди из зон боевых действий. Нужен «сленговый» переводчик, владеющий понятиями, которые использовали внутри группы. Только специалист со знанием вопроса может понять истинный смысл этих терминов.Следующий момент – медики, которые в первую очередь принимают и оказывают помощь в восстановлении физического здоровья. Я бы даже диетолога добавила к многочисленному списку врачей, потому что дети и женщины физически истощенные, они голодали. Им нужно дать время, чтобы восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта.
Представьте, человек несколько лет находился в зоне, где единственной идеологией была идеология террора. Эти люди были частью организации, которая терроризировала весь мир, и в то же время эта же организация терроризировала своих членов. И теперь они попадают в руки военных, находятся в лагерях и тюрьмах, ожидают суда. Условия в этих лагерях ничуть не лучше, чем были в зонах боевых действий, они продолжают голодать. Их организм очень сильно истощен. Но когда они приезжают, неужели их нужно развлекать песнями и танцами, пытаться сделать из них патриотов? [quote]Прививать патриотизм нужно после того, как вы накормите человека. [/quote]
Каждый кейс нужно изучать в отдельности, соответственно и программу строить индивидуально. Универсального ключа нет, если бы он был, во всем мире им бы успешно пользовались. Одна за другой страны объявляли бы, что победили такие явления как экстремизм и терроризм. Но нет такого волшебного рецепта.
По каким критериям можно оценивать успешность реабилитации?
Критерии могут быть только на уровне личностных изменений. Да, это очень тяжело, это может длиться годами и привлекать нужно много специалистов, вкладывать огромные средства.
Такой показатель как снятие хиджаба – это однозначно не критерий. У меня в практике были случаи, когда женщины в тюрьмах говорили: да, я пою, и танцую, одеваюсь как все, чтобы получить УДО (условно-досрочное освобождение), но как только я выйду, все изменится. Они делают это не потому, что так хотят, а потому, что это нравится людям, от которых зависит их освобождение. [quote]Нужно перестать работать с одеждой, работать нужно с человеком, который носит эту одежду. Где связь между снятием хиджаба и победой над экстремизмом?[/quote]
Помимо физического и психологического состояния, необходимо также учитывать, что есть определенные религиозные установки. Как работать с этими установками?
Находясь в террористических организациях человек теряет способность мыслить аналитически. Поэтому сначала необходимо восстановить эти функции, включить мозг, который искусственно был «отключен», помочь ему начать мыслить и принимать решения самостоятельно. Потом уже подключать теолога для коррекции религиозного мировоззрения. До этого момента человек не готов разговаривать на религиозные темы, он будет их отвергать.
Сколько должен длиться процесс реабилитации?
Нет единого критерия по длительности реабилитации. Даже когда вполне нормальный человек переезжает из одной местности в другую, ему тяжело адаптироваться. Человек привыкает к новому климату, новой еде. Смена места жительства серьезно сказывается на здоровье. Представьте, как тяжело адаптироваться людям с таким бэкграундом. Реабилитация не должна быть жесткой.
Когда они приезжают, им нужно дать время адаптироваться и отдышаться, наесться, выспаться, перестать думать о том, что сейчас начнется бомбежка. Когда-то давно я работала с ребенком, который своими глазами видел войну на Северном Кавказе. Когда его мама выходила, чтобы вынести мусор, у него начиналась истерика, доходящая до судорог. Потому что в его представлении если мама вышла из дома, ее сейчас убьют. Ребенку было пять лет. Когда он слышал звук петард, он хотел спрятаться, потому что считал, что это взрывы. Он не мог смотреть даже на свет лампочки, потому что вырос в подвале. Приедут примерно такие же дети. Но при правильных условиях реабилитации можно получить хорошие результаты.
В случае с маленькими детьми часто достаточно, чтобы их окружили заботой и любовью. Любите их, и они правильно переживут этот травматичный опыт. Взрослых тоже следует любить и поддерживать. Нужно уметь слышать и постепенно раздвигать рамки, в которых находился человек. В случае с подростками и взрослыми процесс реабилитации и дерадикализации, возвращения их в общество может длиться годами. Никто не сможет дать гарантию, что тот опыт, который они пережили, можно полностью уничтожить – это невозможно убрать из головы.
Период карантина зависит от тяжести состояния человека. На адаптацию уходит приблизительно три месяца. При идеальном сценарии люди должны просто наслаждаться мирной жизнью три месяца. Дальше должна быть работа специалистов, которым следует работать в команде, причем в команде с семьей. Работа любого специалиста – психолога, теолога и других – заканчивается тогда, когда закрываются двери кабинета. А что дальше? Мы же не возьмем их под круглосуточное наблюдение к себе по домам, все время контролировать нельзя. Поэтому важна роль семьи и родственников, разумеется, при их наличии. Они должны стать своего рода проводником, мостиком между террористической организацией и социумом. Но здесь есть риск, что родственники сами могут быть вовлечены в деятельность таких организаций. Этими вопросами должны заниматься спецслужбы и прорабатывать такие риски, это их компетенция. То, что в наших руках – проработать проблему с самими родственниками. Они точно также боятся, у них много страхов и стереотипов на эту тему, и они могут делать ошибки, которые негативно повлияют на реабилитацию. Их тоже нужно обучать.
Есть риск, что общество не примет этих людей и даже после реабилитации они не смогут полноценно интегрироваться в сообщества. Как работать с этим вопросом?
[pullquote align=»right»]Если общество не примет этих людей, не даст им шанс, то все попытки реабилитации будут тщетными. [/pullquote]Человек приехал, а его нигде не принимают на работу, с ним никто не хочет общаться, его избегают соседи, с детьми не играют во дворе. Что станет с этим человеком? Он пойдет обратно, туда, где его будут любить и ценить, условно говоря. Для преодоления этого риска есть программы медиации.Например, в Грузии есть программа для трудных подростков, где менторы работают с сообществами, куда эти дети возвращаются после, скажем так, конфликта с законом. Они работают с людьми, объясняют им, что отталкивать таких подростков нельзя. Когда общество их не принимает, оно подталкивает их дальше в эту бездну, на преступный путь. То же самое и с возвращенцами. Нужно понимать, насколько опасна в глобальном плане эта проблема.
Когда основная часть программы реабилитации завершена и люди интегрируются в сообщество, необходимо ли наблюдать за ними, чтобы оценить эффект реабилитации?
Нужно переходить от понятия наблюдения к понятию помощи. Это две совершенно разные вещи. Я призываю к тому, чтобы этим людям был дан статус жертв, которые имеют право на реабилитацию и поддержку, а не членов террористических организаций, которые обязаны пройти процесс реабилитации. Это совершенно разные подходы, разная техника исполнения. С этим связан еще один риск – невозможно заставить человека исправиться, он должен этого хотеть. Он должен знать, что с ним будет происходить в процессе реабилитации, кто с ним будет работать. Без его информированного согласия эта работа будет бесполезна.
Данная статья была подготовлена в рамках проекта IWPR «Стабильность в Центральной Азии через открытый диалог». Мнения, озвученные в статье, не отражают позицию редакции или донора.